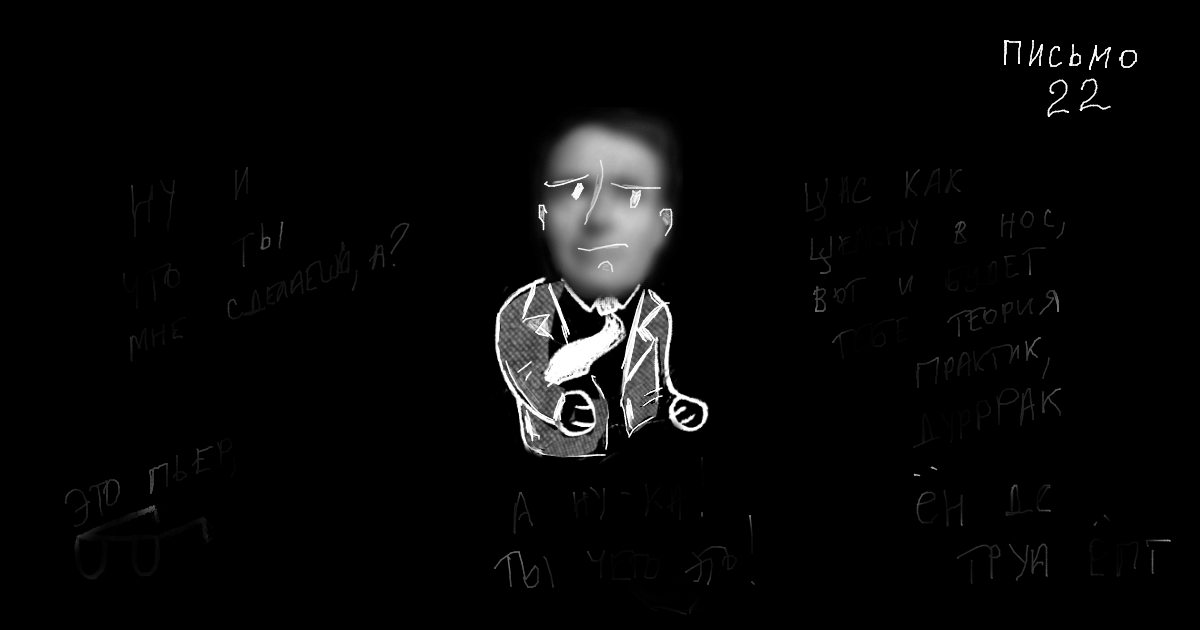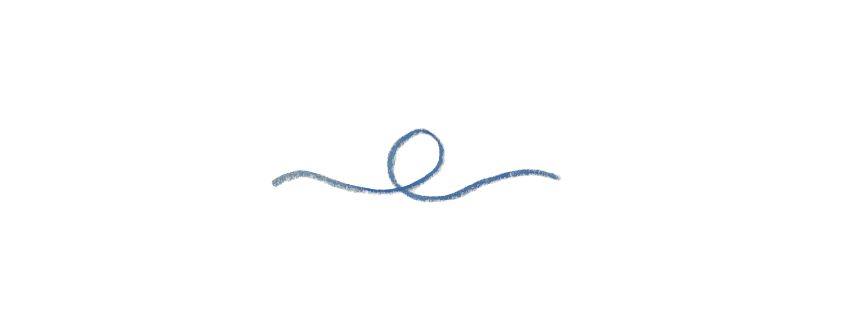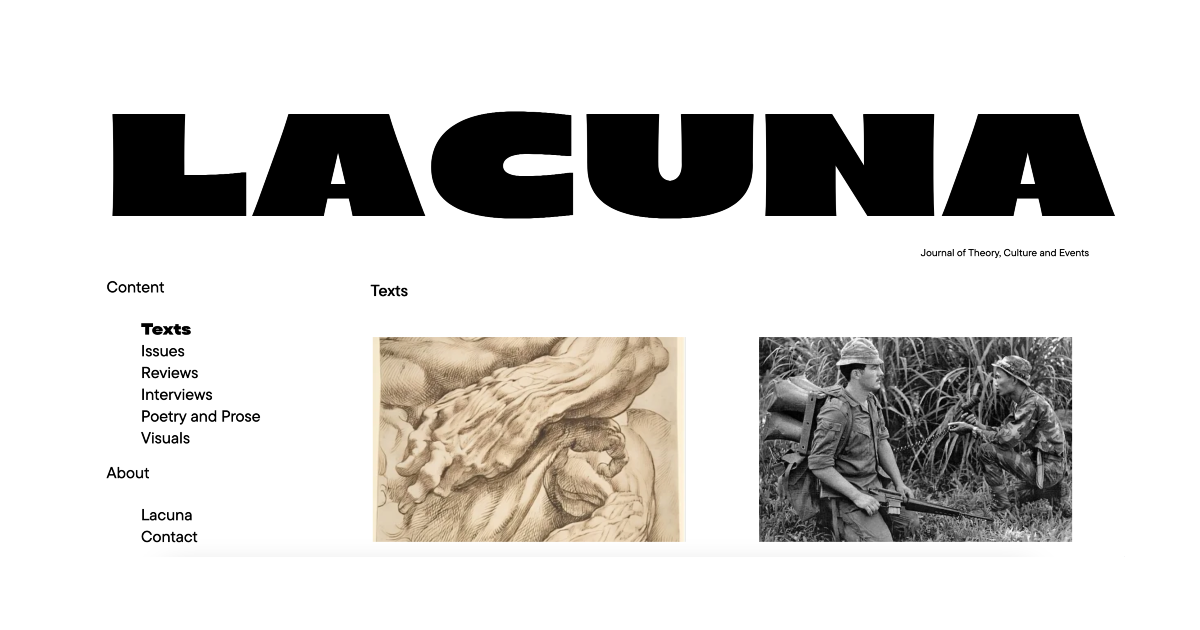Привет, это опаздывающее (и довольно длинное) письмо из двух историй и двух призывов к действию — один грустный, другой скорее приятный. Спасибо!
1. рамки и скрепки
К этой части относится заглавная картинка. Туманноликая фигура на ней — французский социолог Пьер Бурдье. Он поднимает кулачки, чтобы кого-нибудь буцкнуть, потому что он социолог, и в его картине мира социология «боевое искусство»1, которым овладевают, чтобы бить тех, кто чинит несправедливость.
Туманноликий он, потому что пока для меня слаборазличим.
В моем исследовательском блуждании я застрял на том, что читаю много интересных материалов, но они все лежат на разных уровнях: тут и методички для режиссеров советского ТВ 1961 года, и материалы социологических семинаров по теории коммуникации из-под Тарту из 1967 года, и современные тексты российских и американских историков, и они все — как облака в небе. Вроде складываются в форму, но плывут с разной скоростью и на разной высоте.
Чтобы их собрать, нужна композиция, и лучше всего поместить ее в теоретическую рамку. Поддавшись обольстительному слогу нескольких историков, которые описывают советское телевидение ну вот как оно есть, я наивно решил, что могу попробовать думать без рамки, и случилось такое: интересные тексты продолжили прибывать, а вопросы к ним пошли на убыль.
Потому моя задача на ближайший месяц — ясней вглядеться в Бурдье и его идею «литературного поля», чтобы пользоваться нормальной рамкой, а не скрепкой.
О скрепке скажу так. Неделю назад отправился на лекцию из цикла «Революции», запущенного колледжем Дарвин, для которого главный революционер — человек, чью фамилию колледж гордо носит. Лекция была про китайскую культурную революцию, читала её Таня Брэниган, корреспондент The Guardian в Китае, написавшая книгу «Красная память», сложенную из голосов выживших.
Серия лекций настолько популярная, что в основной зал не успеваю попасть; в десяти шагах от входных дверей усталая приземистая дама в черном всём (и даже в котелке) стоит, чуть подавшись вперед как защитник в регби. Она оберегает вход от опаздывающих студентов. На ней подрагивает полоска света, испускаемая щелью в дверях; ее задача — не дать полоске расшириться. На нее набегают одышливые люди в велосипедных шлемах, но она знает свое дело.
Чуть наклонив голову вбок, дама говорит: «Спасибо за ваш интерес, мест нет, идите в соседнее здание, там трансляция». Люди отскакивают с вздохами, я тоже. Полоска дрожит. Раздраженно бреду в соседнее здание. В римской аудитории раскатан экран, на месте лектора тугое полотнище, на которое проецируют кафедру из соседней аудитории. Чувствую себя глупо, как и всякий раз, когда в Кембридже налетаю на «это событие пройдет в Zoom», «подключайтесь к нашей трансляции». Видимо, детски настойчивое желание у меня такое: раз я здесь, то все-все-все вещи должны случаться лицом к лицу, в зуме я и в Екатеринбурге мог посидеть. Пара минут, и на полотнище появляется кто-то, а потом уже Брениган.
Она встает за кафедру, вежливо шутит, что вместо синдрома самозванки предпочитает «купаться в атмосфере университетской респектабельности, сгустившейся за счет всех предыдущих лекторов этого цикла», и начинает.
Ее лекция — синтез сюжетов из книги, а книга сложена из фрагментов прямой речи, кто очутился внутри Культурной революции ребенком или взрослым.

Брэниган коротко описывает общий контур революции, и звучит это так:
Мао боялся консолидации элит, элиты боялись Мао, дети пока еще ничего не боялись, — действующие лица выведены уверенно и плоско, у них есть мотивация, а абстрактные, неразличимые процессы вроде урбанизации в разговоре не упоминаются. Дальше дает голоса отдельным героям, которых и ссылали в сельскую местность, которые были в красной страже, терроризировавшей горожан, — и тем, кто родился уже после революции и пытается выудить из родителей хоть пару слов о том, что было.
Уважая анонимность своих героев, Брэниган говорит: «в разговоре со мной Психотерапевт вспоминает…», «это навсегда запомнилось Кинорежиссеру…», и рассказ о культурной революции становится грустной комедией дель арте, в которой актеров в масках на сцену не выпустили, и за них отдувается режиссер.
Лекция складывается так: анекдот из прошлого («они хотели, чтобы в Пекине дорожный регулировщик размахивал красной книжечкой Мао вместо жезла, потому что только Мао может указать путь и людям, и машинам»), комментарий со вздохом о коварной автократии Си Цзиньпиня, реплика от Психотерапевта, и обобщение в духе: «Память не может молчать». Предмет разговора выскальзывает.
Лекция Брениган показалась мне плоской, и не только потому, что я смотрел на лектора на плоском холсте. Она позволила говорить через себя анонимизированным собеседникам, каждая и каждый из которых занят в разных сферах, обладает своим уникальным опытом, размещенностью в сети отношений, но эти разности так и не проявились. Анекдоты сцеплялись через поэтически-шаблонные обобщения (скрепки), соединявшие так, чтобы история не распалась.
Её замечания не складывались в сюжет, который способен удержать в себе и отдельные голоса героев, и сложить перед слушателем или читателем объемную картину, в которой заметны не только вспышки памяти отдельных людей, но и общие понятия, соединяющие героев, позволяющие следить за изменением феноменов, которые автор конструирует перед читателем и для него, где есть последовательная развертка аргумента, без которой тоже сюжета нет.
Это, конечно, может звучать как брюзжание без повода; в конце концов, зачем я ждал от популярной лекции многомерного сюжета. Думаю, что я раздразился так сильно, что решил об этом написать, как раз потому, что месяц провел, тупо втыкая скрепки в свой собственный материал. Меня разозлило в лекции то, чем занимался сам, пытаясь ухарским риторическим приемчиком склеить несобираемое. Как говорил на одном из семинаров по работе с академическими текстами социолог Константин Гаазе, есть такой режим работы над эссе: «Читал мало, читал плохо, но придумал фишку!». Рецепт против режима тоже простой:
фишку забыл, эссе отложил, идешь и читаешь дальше.
Я планирую следовать этому рецепту и вернуться к Бурдье, чья концепция «литературного поля» позволяет о фишках и скрепках забыть. Не думаю, что он вам так нужен, как мне, но все равно зову читать его внимательно. Потому что всегда — почти всегда — он создает не только дистанцию между читателем и объектом, приглашая вместе с ним конструировать объект, но и бросает остроту, напоминающую о том, что до объекта далеко, а до автора — нет.
См. финал предисловия к статье о поле литературы, это ли не супер:
Поскольку мне приходилось думать и говорить, что позиции, наименее благоприятные социально, часто оказываются наиболее благоприятными научно, я мог бы сказать себе, что такой ценой, по крайней мере в данном случае, приобретается научное знание. Однако наука и знания, которые я так или иначе приобрёл, обязывают меня признать, что искусство ставить себя в невозможные положения является, быть может, не чем иным, как крайним, немного отчаянным способом выдавать нужду за добродетель.
призыв помочь художникам, которым прилетело:
12 марта в разных городах России у разных художников, кураторов и менеджеров культуры прошли обыски — новость на ОВД-Инфо до сих пор дополняется.
Обыски проходили по делу Петра Верзилова, бывшего издателя Медиазоны и менеджера группы Pussy Riot. При этом те, у кого в Нижнем Новгороде, Москве, Екатеринбурге и других городах в шесть утра раздербанили квартиры (еще не у всех, но у многих изъяли компьютеры и документы), с Верзиловым не связаны; их соединяет только названная принадлежность к общему профессиональному кругу — современное искусство.
Моему взгляду, еще и искаженному долгим отсутствием, ситуация представляется сверхабсурдной. Как если бы человек в мундире решил сплести сеть фигуристок-конспирологов, открыл дело какой-нибудь знаменитой московской фигуристки и свидетелями к нему стал привинчивать всех, кто заканчивает класс фигурного катания в крупной школе в своем городе. Такой пинок по ассоциации: о, вы современные художники, взбодрим вас обыском.
В любом случае призываю поддержать деньгами и художников, и адвокатов, которые вызвались представлять художников в суде. Отдельное уважение команде низового фестиваля уличного искусства «Карт-Бланш» за то, что в суперсжатые сроки включились и повели себя как профсоюз. Цитирую их:
у большинства [художников] нет адвокатов и законных представителей для защиты своих интересов.
Мы не знаем, как будет развиваться ситуация и сколько административных и уголовных дел может возникнуть в результате. Поэтому мы объявляем сбор пожертвований на услуги юридической защиты для художников в России.
Все собранные средства будут переданы адвокатам, согласившихся защищать интересы художников (их мы нашли). Кроме того, мы хотим попробовать собрать денег на покупку простых смартфонов всем, кто лишился своих телефонов в результате обысков. Но прежде всего - юридическая защита.
Пожертвовать можно любую сумму. Это абсолютно безопасно. Мы будем публиковать отчеты о собранных и потраченных средствах.
Если вы хотите помочь:
Тинькоф 2200701041161537
Райффайзен 2200300511700302
Если вы хотите пожертвовать с зарубежной карты, напишите нам в телеграм @cbfestinfo или на почту cbfestekb@gmail.com
Спасибо команде «Карт-Бланша» (пост целиком тут). И, конечно, можно поддержать ОВД-Инфо, поскольку защитники, связанные с этим волонтерским проектом, также представляют интересы тех, по кому (надеюсь, предупредительно) проехалась гребенка. От этой новости мне очень кисло.
2. история о волеизъявлении
Тут коротко. Эта история вспомнилась мне из-за книги Оксаны Васякиной «Степь», в которой Оксана, как и во всей трилогии, делает для меня важную штуку: конструирует мир так, что позволяет ему вмещать одновременно пыльный запах трассы, неловкое застолье в Усть-Илимске, космогоническую поэму Лукреция Кара «О природе вещей» и астраханскую воблу. Это мне надо.
Я до сих пор не понимаю, как соединять и не упускать из вида такие разнесенные фрагменты реальности: на каждую беседу о балете или понятии «возвышенного» память готова принести уравнительное воспоминание о том, как я, стоя на рынке автозапчастей, притиснувшись к отчиму, перебрасываю из руки в руку пузырчатый чебурек и говорю с самыми хитрованскими мужиками города Оренбурга, которые видели много жизни. Чебурек вкусный, ниче неясно.
И думаю, что честное применение положений, скажем, «феминистской позиционной эпистемологии»2 должно учитывать такой опыт формирования и размышлений, и что он для меня не менее определяющий, чем штудирование лекций Фуко, но, почему-то слова, которые распознаются внутри тех групп, с которыми я сегодня думаю, чаще приходят из кармашка с Фуко (а не с чебуреками). Оксана же находит и слова, и способы показывать это вместе.
Вот в главе тринадцать происходит то, что я бы припечатал словом темпоральность и дальше пошел, а Оксана остается в фуре с отцом-дальнобойщиком, с которым они неловко едут из ниоткуда в Рыбинск:
Отец <…> вставил в магнитолу кассету избранных хитов Михаила Круга. Время перестало иметь значение, оно стало как песня, которую можно раз за разом отматывать назад и слушать ее сначала. Так понимал время отец, для которого большое общее время не имело смысла. Ресторанная скрипка Круга пела в «девяносто девятой» больше десяти лет назад, пела она и сейчас.
Это ух. В общем, текст Оксаны во мне ноет, и он же толкает память.
Вроде бы 2018 год. Заканчивается зимний книжный фестиваль в Центре «Смена» в Казани. Команда и гости гудят, мнутся стаканчики с вином, лица красные и веселые, проблемы вроде бы кончились, а праздничное настроение нет. С кем-то выходим покурить, болтаем, вглядываемся — в серых снегах что-то чернеет.
Что-то большое и неподвижное. Нарушать праздничный треп и шум в ушах не хочется, но и трагедий тоже. С сигаретами двигаемся к чернеющему. Оно чернеет большим пьяным спящим мужиком. Шапка съехала, сопит, тело припорошено снегом. Хлопаем по карманам, видим паспорт, в нем билет на поезд. Сверяемся с табло: поезд уехал час назад. Картина вроде бы понятная: работал на вахте, деньги берег, взял поезд, да решил выпить на ход ноги, ход оказался неумолимым, и вот ветер свищет, ветер воет, а мужик спит в снегу.
Настроения нет. Мужчина тяжелый, на толчки отзывается подрагиванием. Нас двое. Поднять не хватает сил. На прямые вопросы отвечает вздохом, не просыпаясь. Вызываем и милицию, и скорую одновременно. Шум в ушах отступает, не помню, как дела у визави, но я трезвею и ощущаю печаль. Мужчина сопит. Помню: хочу его пнуть, но напоминаю себе, что он сделал свой выбор, когда здесь лег, а я сделал свой, когда сюда подошел. Винить мужика в своем выборе не стоит. Проходит пятнадцать минут. Мерзнем.
Полиция и скорая приезжают одновременно. В иллюстрации чуть вру, потому что их тоже было двое с каждой стороны: два полицейских в патруле, два санитара. Но в каждой паре есть главный. Выходят из машин с усмешками, установив наш статус переживающих прохожих, интерес теряют (нам же не сдашь этого человека). Наклоняются над чернеющим с двух сторон и спрашивают. Точной формулировки не схватил, но помню что-то в духе: «Нечасто бывает, что мы одновременно, так что у вас есть выбор, с кем поехать».
Таращась на склонившегося синенького (санитар) и темно-синенького (полицейский), я не верил своим глазам. Вот два щупа государственной системы бережно касаются неизвестного гражданина и детально анонсируют свои программы. Полицейский: «Поедешь с нами, душ не обещаем, но койка у нас теплая, еще можем тебе организовать звонок близким. Еды нормальной нет, правда»; санитар: «У нас и душ есть, и переодеться можно, но раз ты такой красивый, то мы тебя только в вытрезвитель можем, это отдых надолго».
Мужчина мычит.
Ночь, Казань, до вокзала семь минут пешком. Оттуда дотягивается одинокий диспетчерский голос, рассыпается по площади и касается нас. Свет машин желтит чернеющего мужика, полицейский и санитар курят и ждут, пока мужик сделает свой выбор, мы курим, потому что не знаем, закончилась наша миссия или нет. Мужчина вздыхает и мычит и отказывается приходить в себя.
Если бы я хотел скрепить сюжет, то я бы тут засунул, конечно, что-то типа «вот так вот, Россия, — в те моменты, когда исполнительная власть искала взаимности, русский мужик не мог сформулировать свое мнение», но это не так.
Я даже не помню, чем это закончилось. И думаю, что это потому, что мы с визави устали мерзнуть чертовой ночью, в которой мы хотели праздновать конец фестиваля. И я не знаю, кто взвалил на себя мужика — 02 или 03, и уехал мужик в свой родной город. Знаю только, что была эта странная сцена выбора, который человек не смог сделать, потому что был мертвецки пьян. И мы это видели.
призыв заполнить лакуну:
В феврале компания исследователей культуры запустила рецензируемый самиздат Lacuna (на английском). Во-первых, конечно, мне нравится это слово; во-вторых, уважение Анастасии Погореловой, сделавшей сайт журнала и контринтуитивный шрифтовой логотип — такой широкоплечей и округлой лакуна мне никогда раньше не представлялась, а зря:
В-третьих, журнал открыт к самым разным текстам: от основательных статей до поэтических подборок и рецензий на всякие культурные артефакты. Полагаю, что если у вас есть классные идеи, которым никак не случиться в нынешнем внутрироссийском русскоязычном пространстве, можно закрыть эту лакуну. Если я перестану перегружать себя, то и сам подам небольшой текст.
Заявки принимают на вежливый к чужой приватности сервис Proton Mail, в общем, «с уважением к вашим данным». С редколлегией не очень знаком, но среди основателей — Панос Компациарис, греческий исследователь, годами разбирающийся со взлетами и кризисами «биеннале» как формата вообще и отдельных биеннале в частности3. Мне нравится его взгляд и, полагаю, что взгляды других редакторок и редакторов проекта супер. Гоу чек.
На этом у меня всё, надеюсь, что ваши дела нормально.
Буду рад вашим ответам, мыслям и замечаниям.
ёу,
пока!
P.S. В заглавной иллюстрации использован портрет Пьера Бурдье работы Ульфа Андерсена. В иллюстрации номер два использованы фрагменты (1) фотографии Екатерины Аболмасовой под названием «Участковый уполномоченный полиции во время рейда» и (2) репортажной фотографии (великой) Анны Майоровой.
Рекомендую документальный фильм «Социология это боевое искусство» (2001), в котором режиссер неотступно следует за энергичным Бурдье, бегающим с интервью на демонстрацию, с пикета на лекцию, и везде ведет себя электрически и бодро. Очень мотивирующее кино.
См. подробнее: 2.3.1. Основные положения позиционного подхода в Здравомыслова Е., Тёмкина А. (2015). 12 лекций по гендерной социологии: учебное пособие. Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, с.119
Вот, например, Панос совместно с Анастасией Филимонос прожаривает пятую, предпоследнюю Уральскую биеннале из 2021 года — дельная, обидная, интересная статья. Если интересуетесь curatorial studies, рекомендую.