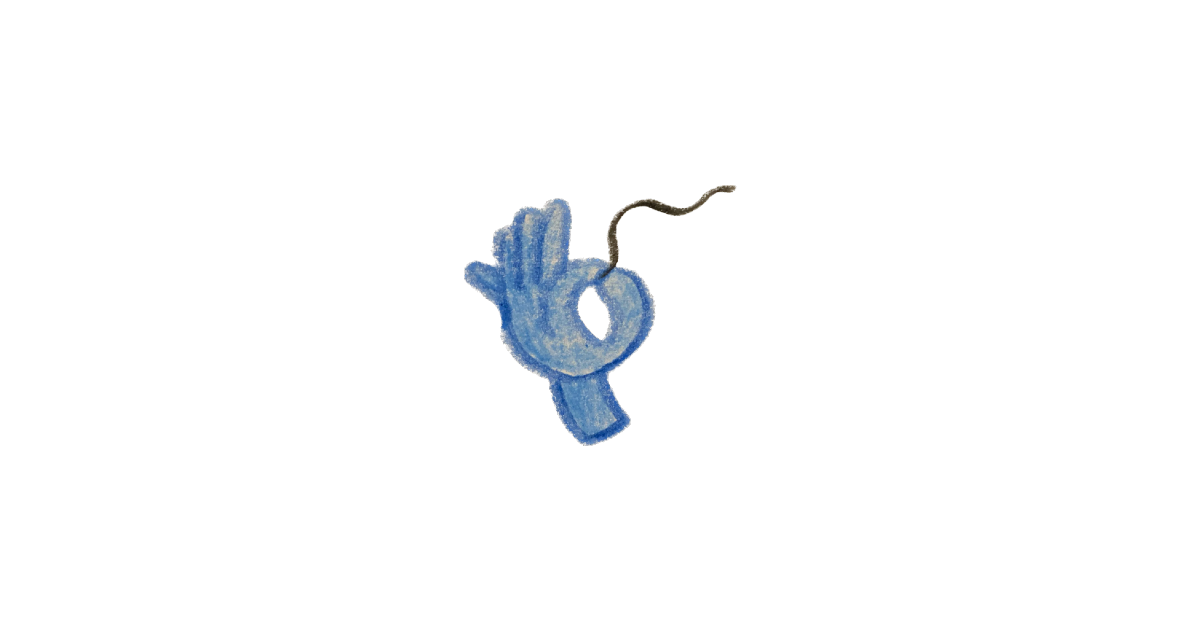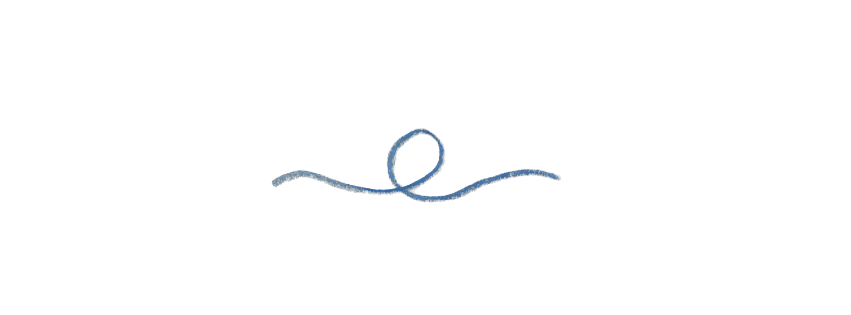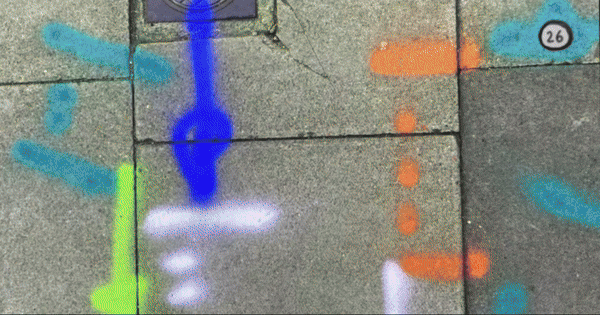Привет, это письмо приходит в субботу, следующие будут приходить также.
Ритм меняется. Причина простая: надо мной висит дедлайн, я пишу текст для внутренней экзаменации, на которой строгие люди будут спрашивать: в чем научная новизна проекта?, а я буду ошеломительно улыбаться. Ну, план такой.
Следующее придет в конце июня и, вероятно, тоже будет коротким.
Название письма — сломанные строчки стихотворения Олега Пащенко:
и это лучшие ночи человечества
московский город туго заштрихован
в двух направлениях тугих он сетка
трепещет спутав улицы
и это...1
Несколько месяцев назад шел по Лондону и, опасаясь сенсорной перегрузки, таращился под ноги. Так я уткнулся в малопонятные знаки на плитах. Красный, желтый, белый, зеленый. Синий жирной завитушкой, белый и красный прерывисто. Я понимал, что это сообщения, но не понимал, кто что кому сказал. Тем не менее, ритм корябок меня захватил, и в голове застучал трек Raro, выходивший на лейбле (ха) Rhythm Section. Видимо, потому, что его рваный рисунок, в котором сходятся бас, резко обрубленный вокальный сэмпл ха, приглушенные барабаны и клэпы, для меня похож на эти корябки:
Позже я узнал, кто так общается на улицах Лондона. Этот язык стихийно выработали (преимущественно) мужики в жилетах: водоканальщики, электрики, монтажники, разметчики. Синий — водопровод. Красный — электричество. Зеленый — кабели и оптоволокно. Белый кодирует метки, которые указывают не за/под асфальт, а относятся непосредственно к полотну: что с ним надо сделать, где подкрасить, и так далее. Еще есть оранжевый, но ладно.
Это знание для меня такое же красивое, как и трек. «Асфальтный диалект» (pavement patois) родился из потребности людей, работающих на одном квадратном метре (хотя глубины разнятся). Действия электриков отзываются на работе тех, кто прокладывает кабель, и всем участникам надо понимать, кто что планирует делать или уже сделал. Допускаю: чем слаженней работа представителей служб на конкретном участке, тем лаконичней сообщения2.
И этот язык дышит, как хочет. Несколько попыток перевести его в официальный дизайн-код провалились. Служб слишком много, подчиняются они разным субъектам (городу, району, а кто — частной компании), и униформный язык они не захотели. Потому «диалект» изменчив: кто-то из водоканальных служб пользуется глубоким синим, кто-то светло-голубым, и всем нужно учиться его читать: надеюсь, есть встречи, на которых люди в жилетах сидят за сладким обеденным пивом и рисуют друг другу фломастерами учебные разметки.
давнее письмо со схожими ритмическими штучками :
Пару недель назад мы с кембриджскими приятелями посмотрели фильм про пожилого японца в комбинезоне, который влюбленно фотографирует свет, запутавшийся в листиках деревьев, и прибирается в туалетах. Это фильм Вима Вендерса Perfect Days, выросший из коммерческого проекта: токийские градоначальники позвали 78-летнего режиссера сделать короткометражку, которая бы всем рассказала, какие в Токио потрясающие публичные туалеты.
Вендерс увлекся, получилось великое кино3.
Герой по имени Хираяма каждый день делает буквально одно и то же: пшикает водой на растения, хватает банку кофе из автомата на парковке, погружается в мини-вэн, пока едет от туалета к туалету, слушает пол-песни Лу Рида или Патти Смит. И ему это очень нравится. Жизнь других, подчиняющаяся иным ритмам и желаниям, вспыхивает перед Хираямой, но он её не пускает внутрь, потому что «боится пожертвовать идеальным ежедневным распорядком»4. Perfect Days показывает рутину, в которой герой освоил и наполнил смыслом каждую секунду; за ее границы он поместил остальное в мире, не очень нужное. Расписание Хираямы сложено управляющей компанией, но он так его прочувствовал, что владеет им — буквально человек на своем месте.
Это манящая и фантастическая картина. Когда я перестал ощущать избыточность нового в Кембридже: здания перестали жечь глаза, указатели шуметь, — поверил, что построю рутину, в которой я стану спокойным исследователем. Но не учел, что распорядок требует освоения: нужно дать каждому действию отстояться и найти место в расписании.
Пока не случилось; я все еще не привык к регулярной работе, которая суть текст. А текст подчиняется ритму, который не равен ритму моей вне-текстовой жизни;
об этом хорошо писал социолог Альфред Шюц, такие штуки понимавший:
…каждый, кто пытается записать свои тщательно обдуманные мысли… обнаружит, что во время записывания возникают новые важные темы, которые упорядочивают и шлифуют мысль. Результатом становится то, что готовый продукт неизбежно выглядит иначе, чем замысел. Общий принцип теории действия в том и состоит, что исполненное действие отличается от задуманного5.
Поэтому письмо прерывистое. Занимаясь им, продолжаю думать об экзаменационном тексте, постоянно видоизменяющийся черновик которого должен обрести форму к неизменяющемуся дедлайну. Но пока ломает ритм.
Вообще я хотел написать не про разметку и уборщика Хираяму, но — смотри цитату из Альфреда Шюца. Мысль отшлифовалась иначе. Про ритм я хотел писать из-за лекции Олега Пащенко. Это прекрасный дизайнер и поэт, вы уже натолкнулись на него в начале письма. Он много лет читает кучу всего в Школе дизайна ВШЭ, и недавно начал новый цикл для студентов второго курса. Работая над ним, Пащенко, видимо, пережил смотри цитату из Альфреда Шюца, и лекции развернулись в крутые эссе. Одна из них — Джазовый UX. В ней Пащенко предлагает думать интерфейс как ритм, брать у джаза штучки и переводить их в принцип для отношений пользователя с устройством. Это классно:
Концепты свинга и грува из джаза позволяют переосмыслить отношения между алгоритмической структурой интерфейса и импровизационной свободой пользователя. Микро-вариации, задержки и рассинхронизации оживляют ритм интеракции, придавая ей дыхание и пульс и уподобляя её джазовой импровизации поверх жёсткой метрической сетки.
Пащенко подчеркивает грув и свинг, но меня больше привлекло дыхание — оно тоже подчиняется ритму, но его может захватить, выбить, спереть, и так далее.
Лекция Пащенко вытолкнула мои мысли к другому тексту, который далеко отнесен от дизайна, но касается схожей темы: ритмов, заданных одними людьми так, чтобы на них откликались другие. И в этом тексте тоже движение воздуха.
Но не дыхание, а дуновение.
Это — буквально пдфка добрых советов начинающим диджеям6, подготовленная парой диджей-королев Эрис Дрю и Octa Octa. Хочу увидеть такой на русском, потому что сообщество классных диджеев есть, но дружелюбного текста, в котором люди ясно и нежно говорят о своем ремесле и при этом подчеркивают: «этот мир открыт и для тебя тоже, потому что так работает культура», не видел.
Я сам уже больше года ставлю треки только в своей голове и крепко скучаю по моменту, в котором щелк! и слух ловит, как красиво свести треки и разделить этот прикол с публикой. При этом я всегда робел сводить, так же, как и сейчас пишу свой чертов текст (друг-диджей Саша Комарский как-то сказал:
«Я всегда думал, что твои плохие сведения — художественное высказывание»).
Если бы прочитал текст Дрю и Окты раньше, то меньше бы робел и больше радовался отбору треков. Но довольно об этом, лучше скажу про дуновение.
В тексте есть фрагмент, который, думаю, касается не только диджеев:
Putting two recordings into sync is like tuning an orchestra with the power of your mind. When the recordings are playing together in this state of harmony, they become a unity and it’s beautiful. It is like a wind enters the room. The concentration it takes to maintain the mix creates a tension and release which is perceived by the dancefloor as pure NRG. This is why mixes which are not perfect can be so powerful. It is like watching someone teeter on a tightrope — some of the joy is in the tension of the moment.
Мне очень, очень нравится этот отрывок, как и диджей-сеты Дрю и Окта Окты.
И на этом я прервусь, постараюсь выдохнуть и вернуться к своему тексту.
Спасибо вам большое. Пусть у вас ритм лучше сбивается потому, что дыхание захватило от восхищения. Закончу гифкой, в которой цвета дорожной разметки теряют смысл, но зато пульсируют как в интернете-2007, как в стихотворении Сверкалочка, которое в том же году написал дизайнер и поэт Олег Пащенко7:
…и глазами я видел отлично
то, как жив и красив
в слюдяной скорлупе, в эпицентре яичном
бьётся анимирóванный гиф
Пащенко О. (1992). Десять стихотворений. Вавилон: Вестник молодой литературы, — стихотворение, идущее сразу следом за тем, что посвящено Яне Вишневской.
Примеры таких разметок, пестрящие словами, знаками и числами, смотри в исчерпывающей статье BBC с названием, которое идентично моим первым мыслям:
Cowley L. (2014). What do those squiggles on the pavement actually mean?
Рекомендую рецензию Зельвенского: Perfect Days Вима Вендерса: лето в туалетах.
Тем, кто посмотрел фильм, рекомендую пост писателя Арена Ваняна: И снова Вендерс, и снова Фолкнер…
Schütz A. Das Problem der Relevanz. Frankfurt/M., 1982. S. 154; цитируется по: Нарвский И.., Нарвская Н. (2023). Незаметные истории, или Путешествие на блошиный рынок (Записки дилетантов). Новое литературное обозрение.
См. тут: Пащенко О. (2007). Новые стихотворения. Полутона.